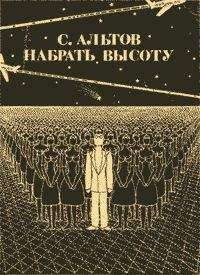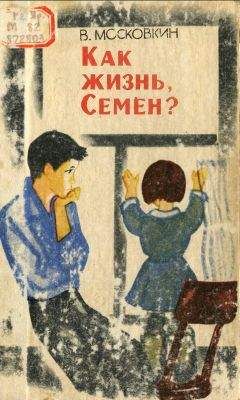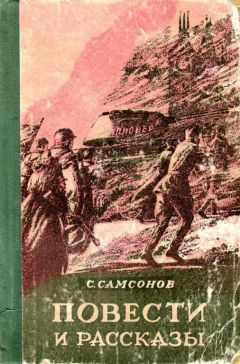Семён Шуртаков - Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]
ЗВЕЗДОЧКА
С утра светило ясное солнце, а потом небо замутнело-замутнело, и как-то вдруг, совсем нежданно ударил, первый в этом году, дождь — сильный, неровный; словно бы за долгую зиму он разучился и вот теперь примеривался: пойдет-пойдет, даст проглянуть солнцу, опять зашумит, и опять солнце светит. А вот уже и сквозь солнце белой сверкающей стеной рушится на землю, омывая только что распустившиеся почки на деревьях, первую нежную траву.
Перестал он так же неожиданно, как и начался. Я взглянул в окно, и — боже мой — что это произошло с тополем и березкой, росшими по ту и другую сторону его! Капли дождя, обильно повисшие на ветках, живыми хрусталиками переливались под ярким, тоже умытым солнцем.
Видно, тополь стоял под каким-то другим углом к солнцу, потому что капли на его ветках были чистыми, насквозь прозрачными, но бесцветными. А вот на тонких ветвях березки капельки горели зеленоватым, голубым, лазоревым огнем. Они и на капли-то не были похожи — они исходили сиянием, как маленькие звездочки. Слабый ветерок качал ветви, и тогда звездочки то на мгновение гасли, то снова лучисто вспыхивали.
И вот то ли оттого, что я переступил с ноги на ногу, то ли солнце успело немножко передвинуться, а только на одной из веток вдруг вспыхнула, заиграла, запламенела непохожая на все остальные рубиновая звезда. Она была и крупнее других, и ярче, главное же — выделялась своим необыкновенно густым пронзительным цветом. Когда звездочка вздрагивала, качаясь вместе с веткой, то, видно, еще на какие-то там сотые или тысячные доли менялся угол, и к рубиновой алости прибавлялись то фиолетовый, то синий тона, а может — если бы получше приглядеться — и весь спектр радуги. Но колеблемая ветерком ветка, а вместе с ней и звездочка все время находились в движении, и не мгновения, а, наверное, всего лишь доли мгновения звездочка горела то одними, то другими цветовыми гаммами, и глазу невозможно было уловить их переход из одной в другую.
Я распахнул окно, в комнату хлынули хмельные весенние запахи. И меня охватило — ах, как это редко с нами бывает в наш кибернетический век! — меня охватило чувство немого восторга перед этим новым, чистым миром, который лежал за окном, словно бы та звездочка осветила его с новой, неведомой стороны.
На березке гасли одни капельки, загорались другие, но и новые сияли все тем же тихим светло-зеленым, голубым или лазоревым огнем. И только одна капелька в самой середине, в самой гущине березовых ветвей жарко алела, как путеводная звезда, и радовала глаз, наполняла восторгом сердце.
…Можно — ли измерить пространство точками и можно ли сосчитать, сколько лучей у солнца?! Но не перекрестись мой взгляд в какой-то микроскопической точке с одним из миллионов солнечных лучей — не видеть бы мне этой звездочки, не заметить бы этой, вроде бы уже и не раз виденной, но всегда новой, вечно новой красоты… Где ты, моя путеводная звезда, моя звездочка?!
Мир так бесконечно велик и так многолюден, что мне страшно подумать, что наши дороги тоже ведь могут перекреститься, а могут и не перекреститься… И кто знает, кто укажет, где в нем та точка, тот перекресток, на котором наши дороги могут сойтись…
1969ТАМ, ЗА НЕБОСКЛОНОМ…
Проснулся Иванеев рано. Через полуотворенные окна в комнату сочилась мгла. По деревне горланили петухи. Всего-то скорее, эти рассветные петухи его и разбудили.
Он встал, оделся, взял приготовленный еще с вечера мольберт и тихонько, чтобы не потревожить сестру, вышел из дома.
Нет, было не так уж и рано. Это, наверное, подступавшие к самым окнам сирень и малина плохо пропускали в комнату свет. А на воле высокое чистое небо источало голубое сияние, и это сияние, нисходя на землю, обливало все на ней необычайной чистотой и свежестью. На траве, на яблонях, мимо которых он проходил, лежала тяжелая, тоже чуть голубоватая роса.
Садом Иванеев вышел прямо в поле.
Нет, совсем не рано! В полях было еще светлее. Небо на востоке, недавно горевшее тихим лазоревым огнем, постепенно краснело, словно бы накалялось. Вот-вот покажется солнце.
Дорога шла хлебами, упираясь на горизонте как раз в то место, где все больше раскалялся невидимый за пригорком небесный горн. В полях стояла глубокая и прозрачная, пока еще не замутненная никакими сторонними звуками тишина. А если временами и слышался дальний звон жаворонка или «поть-полоть» перепелки, это не только не нарушало рассветную тишину полей, а, как-то очень естественно сливаясь с ней, делало ее еще более полной, почти осязаемой.
Не самый ли лучший в суточной череде — этот ранний час?!
Иванеев был твердо убежден, что люди чувствовали бы себя куда счастливей, если бы каждый новый день встречали вот так, на самом восходе солнца, в полях и лугах, в лесу или на реке. Даже не то что счастливыми, счастья им от этого, может, и не прибавилось бы. Но они, по крайней мере, хотя бы знали, как прекрасен мир, который их окружает, как прекрасна земля, на которой они живут. Дневные заботы и хлопоты не оставляют человеку времени на то, чтобы оглянуться вокруг. Да днем и земля совсем не та, что сейчас. Днем она и видится по-другому.
Сейчас все окрест — хлеба и травы, долины и овраги — словно бы еще хранит таинство только что ушедшей ночи; все готово проснуться, но еще окончательно не проснулось и нежится, потягивается, доглядывает последние сны. Все кругом — хлеба и травы, жаворонки и перепелки, эта дорога и вон та поблескивающая в отдалении река, все ждет солнца, все словно бы затаилось в этом ожидании.
А вот и оно, только что выкованное в небесной кузнице, яркое и лучистое, показалось из-за ржаного взгорья и начало расти, прибавляться прямо на глазах. Выкатилось все целиком, уселось на пригорок, немного помедлило, словно бы оглядывая заблестевшие под его лучами поля, а уж потом только сдвинулось, оторвалось от земли и пошло небесной дорогой.
Иванеева охватило детское желание добежать до того пригорка — ведь это так недалеко и так просто! Он даже и шагу прибавил. Но тут же, грустно усмехнувшись, одернул себя: в детстве действительно все кажется очень простым. Особенно в раннем детстве, когда вот этим видимым для глаза горизонтом и ограничивается для тебя весь мир, вся Вселенная. Вон там небо сходится с землей и, значит, земля кончается. И если солнце показалось из-за того пригорка — добеги поскорее до него, встань на гребне, и можешь достать солнышко рукой. Ну разве что на цыпочках придется подтянуться…
На дороге, на самом гребне взгорья, обозначились две совсем черные против света фигуры. Похоже, мужская и женская. Солнце оказалось как раз между ними, и так получилось, что словно бы легло им на плечи.
Иванеев не смог бы сказать, секунду или долю секунды несли на своих плечах солнце идущие ему навстречу люди, да и разве это имело какое-то значение. Пораженный необычайным видением, он остановился и, еще не успев ни о чем подумать, машинально снял этюдник с плеча и прямо на дороге начал раскладывать его. И только когда увидел в своих руках кисть, опять грустно усмехнулся: куда торопишься, фотограф-моменталист?! Остановись, мгновенье, ты прекрасно, — вон уже сколько веков кричат люди. И, однако же, мгновения, увы, не останавливаются…
Он опять сложил этюдник и все тем же размеренным шагом пошел дальше.
Видно, долгонько глядел он на прекрасное мгновенье — обожженные солнечным блеском глаза теперь плохо видели; на что бы он ни обращал взгляд, на всем: на хлебах, на дороге, на небе — ему виделись радужные темные пятна.
Гулкий сдвоенный залп пастушьего кнута, а следом за ним длинная пулеметная очередь тракторного пускача расстреляли, уничтожили утреннюю тишину. Замычали коровы, заблеяли овцы, бабы на колодцах зазвенели ведрами; деревня окончательно проснулась и начинала новый день.
Дальше все пойдет, как и обычно, как и вчера и позавчера: бабы проводят свою скотину в стадо, затем наскоро приготовят завтрак мужьям и вместе с ними разойдутся по работам. Ну а уж за работой где там заметить всю вот эту красоту, которую не всегда и не сразу замечает даже человек, ничем не озабоченный и никуда не торопящийся.
В шедших навстречу мужчине и женщине Иванеев еще издали признал своего шабра тракториста Павла Филипповича, или, как все его звали, Филиппыча, и доярку Алевтину Гурину. Алевтина шла, должно быть, с отгонного пастбища, что на опушке Елхового леса; после ночного дежурства пораньше подоила своих коров — и в деревню. А вот как оказался вместе с ней Филиппыч — непонятно. И, словно бы отвечая Иванееву на его недоуменный вопрос, сосед, едва успев поздороваться, сказал:
— Совсем немного и оставалось-то — ну, самое большее, часа на два, так нет, стал посередь борозды… — тут Филиппыч витиевато, хотя и беззлобно, надо думать, просто для красоты слога, ввернул несколько крепких слов в адрес своего ДТ-54 и уж потом только закончил: — А день-то, день-то какой занимается! Это же горькие слезы — терять такой день…